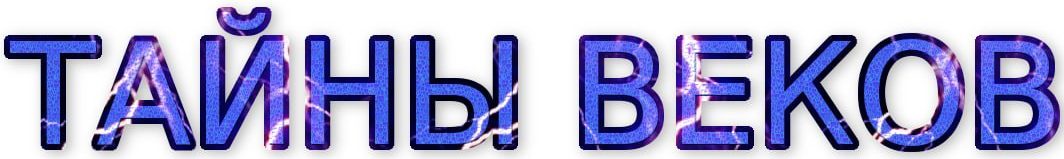К началу 1945 г. на западном фронте сложилась следующая обстановка. В ходе Арденнской операции немецко-фашистское командование не добилось желаемых результатов. Расчеты на захват Антверпена провалились, а следовательно, не была осуществлена идея отсечения американо-английских армий в Бельгии и Голландии. В свою очередь союзники, еще не оправившиеся от арденнского поражения, не подготовились к переходу в наступление.
На совещании в ставке 28 декабря Гитлер вынужден был признать провал плана форсирования Мааса и прорыва на Антверпен. Тем не менее он не только не помышлял об отводе войск из арденнского выступа, но и приказал во что бы то ни стало удерживать достигнутые рубежи. С азартом зарвавшегося игрока Гитлер не раз повторял, что, несмотря на неудачу, намерен осуществить новые удары к югу от Арденн и уничтожить американские войска по частям В то время действительно готовился один из таких ударов на саарском участке западного фронта в районе севернее Страсбурга.
Союзное командование, планы которого о переходе в крупное наступление изменились вследствие внезапного удара противника в Арденнах, все внимание сосредоточивало на ликвидации возникшей опасности и восстановлении линии фронта, занимаемой войсками к середине декабря 1944 г.
Западный фронт к началу 1945 г. проходил по нижнему течению реки Маас, далее шел на север в районе Арнема и затем вдоль западной германской границы до Швейцарии. Отклонения от этой линии фронта имелись лишь на следующих участках: союзные войска вклинились на территорию Германии восточнее Ахена; в результате наступления противника на арденнском участке образовался выступ; вокруг Кольмара немецко-фашистские войска продолжали удерживать небольшую территорию западнее Рейна, так называемый кольмарский мешок.
На северном участке западного фронта, от устья реки Маас до Марша (380 км), действовала 21-я группа армий (всего 17 дивизий) под командованием фельдмаршала Б. Монтгомери в составе 1-й канадской (командующий генерал Г. Крерар) и 2-й английской (генерал М. Демпси) армий. С 20 декабря в 21-ю группу армий были переданы из 12-й группы армий 9-я (командующий генерал У. Симпсон) и 1-я (генерал К. Ходжес) армии США {всего 25 дивизий). В центре западного фронта, от Марша до Саарбрюк- кена (280 км), оборонялась 12-я группа армий под командованием генерала О. Брэдли, в которой в конце декабря осталась только 3-я американская армия генерала Дж. Паттона в составе 13 дивизий. На южном участке западного фронта, от Саарбрюккена до швейцарской границы (240 км), находилась 6-я группа армий под командованием генерала Дж. Деверса в составе 7-й американской (10 дивизий) и 1-й французской (8 дивизий) армий (командующие генералы А. Пэтч и Ж. М. де Латтр де Тассиньи). Одна американская бронетанковая дивизия являлась резервом главнокомандующего, а еще две другие были заняты осадой крепостей Лориан и Сен-Назер иа побережье Бретани и частично находились на пополнении.
Немецко-фашистские войска на западном фронте действовали в такой группировке: на северном участке фронта, от устья реки Маас до Венло (200 км), оборонялась группа армий «X» под командованием генерала К. Штудента в составе 25-й (генерал Г. Блюментрит) и 1-й парашютной (генерал А. Шлем) армий, имевших 9 дивизий. В центре фронта, от Венло до Трира (390 км), действовала группа армий «Б» под командованием фельдмаршала В. Моделя, объединявшая 7-ю (генерал Э. Бранденбергер) и 15-ю (генерал Г. Цанген) армии, 5-ю танковую армию (генерал X. Мантейфель) и 6-ю танковую армию СС (генерал Й. Дитрих). — всего 38 дивизий, в том числе 10 танковых, и 2 моторизованные бригады. Южнее, от Трира до Карлсруэ (150 км), находилась группа армий «Г» под командованием генерала И. Бласковица в составе 1-й армии генерала Г. Обстфельдера, насчитывавшей 15 дивизий. Южный участок фронта, от Карлсруэ до швейцарской границы (160 км), занимала группа армий «Верхний Рейн» под командованием рейхсфюрера СС Г. Гиммлера (19-я армия генерала Г. Фертча — 9 дивизий и танковая бригада); 3 дивизии продолжали удерживать крепости Лориан и Сен-Назер в Бретани.
При определении соотношения сил сторон на западном фронте следует иметь в виду, что союзные дивизии обладали большей численностью и были лучше вооружены. Как правило, они были полностью укомплектованы, в то время как немецкие соединения имели большой некомплект штатного состава. Вот почему при почти одинаковом количестве дивизий союзники существенно превосходили противника.
Несмотря на неблагоприятное для себя соотношение сил, гитлеровское командование готовилось к новому наступлению. 31 декабря 1944 г. началась операция германских войск в Эльзасе, получившая кодовое название «Северный ветер». Замысел ее заключался в том, чтобы ударами под основание выступа в районе к северу от Страсбурга окружить и уничтожить соединения 7-й американской армии, в последующем развить наступление на запад. Главный удар наносился на северном фасе выступа силами девяти дивизий (в том числе танковая и две моторизованные) группы армий «Г», с юга должны были наступать три пехотные дивизии и танковая бригада из группы армий «Верхний Рейн».
Восемь из десяти пехотных дивизий 7-й американской армии и ее две бронетанковые дивизии занимали оборону в Эльзасе на фронте протяженностью 150 км. На направлении главного удара противника (в полосе 50 км) находились три пехотные дивизии. Против 19-й немецкой армии по левому берегу Рейна (на фронте 60 км) оборонялись две американские дивизии.
Наступлению немецко-фашистских сухопутных войск сопутствовал внезапный массированный авиационный удар по аэродромам Бельгии и Голландии. Для этого гитлеровское командование собрало всю авиацию, которую еще можно было использовать,— всего 1 тыс. самолетов. В ходе нанесения удара было уничтожено 260 самолетов союзников. Потери с немецкой стороны составили 93 самолета. Однако при возвращении авиационных частей на базы они подверглись интенсивному обстрелу своей же зенитной артиллерии, прикрывавшей районы размещения стартовых площадок баллистических ракет Фау-2: было сбито 200 машин, уничтожены десятки опытных экипажей. Из сопоставления потерь видно, что успех оказался не столь значительным, как рассчитывало немецко-фашистское командование, и достался слишком дорогой ценой.
Союзное командование заранее узнало о готовившемся наступлении противника. Еще 26 декабря 1944 г., за неделю до нового года, в разведывательном отделе 7-й армии имелись данные, что 1—3 января следует ожидать наступления в Эльзасе. Однако союзники ничего не предприняли для укрепления обороны Северного Эльзаса. Более того, получив разведывательные данные, Эйзенхауэр стал изыскивать возможности сократить линию фронта в этом районе, чтобы создать резерв главного командования, а командующий 6-й группой армий, учитывая неблагоприятно складывавшуюся обстановку, намечал промежуточные оборонительные рубежи, на которые предусматривалось в случае неудачи отвести свои войска.
К исходу третьего дня наступления противник продвинулся на глубину до 30 км. Передовые его части оказались в 30 км северо-западнее Страсбурга, где проходила единственная коммуникация, еще остававшаяся в распоряжении 7-й американской армии. Главное командование союзных экспедиционных сил, опасаясь, что эта армия окажется в окружении, приняло решение в целях сокращения линии фронта и создания прочной обороны на новом рубеже отвести войска из района Страсбурга к Вогезам. 3 января генерал де Голль выразил категорическое несогласие с таким решением, заявив, что «преднамеренное оставление Эльзаса и части Лотарингии без боя будет крупной ошибкой как с военной, так и с государственной точки зрения». Далее он сообщил Эйзенхауэру, что рекомендовал командующему 1-й французской армией генералу Ж. М. де Латтр де Тассиньи «оборонять имеющимися в его распоряжении французскими силами занимаемые им в настоящее время позиции и оборонять также Страсбург, даже если американские войска левее отступят».
Главное командование союзных сил, понимая, что отвод войск с занимаемых позиций, в том числе из Страсбурга, отрицательно повлияет на отношения с французами, пошло на пересмотр своих планов. Решено было отвести из резко выступающей дуги фронта лишь соединения 6-го армейского корпуса так, чтобы его левый фланг опирался на Вогезы, правый был оттянут на юг в общем направлении на Страсбург, а оборону этого района передать соединениям 1-й французской армии.
4 января гитлеровское верховное главнокомандование отдало новую директиву, в которой указывалось: ближайшая задача группе армий «Б» — сковать противостоящего противника, разгромить его войска под Бастонью, на юге создать сильный фронт, упрочив тем самым свое положение. Группе армий «Г» надлежало продолжать операцию «Северный ветер» с задачей уничтожить американо-английские войска между рекой Рейн и Вогезами, овладев при этом их западными склонами, и создать благоприятные предпосылки для дальнейшего наступления. Группа армий «Верхний Рейн» должна была захватить плацдарм севернее Страсбурга и, наступая в северо-западном направлении, соединиться с войсками 1-й армии или овладеть западными склонами Центральных Вогез.
На следующий день 19-я армия предприняла наступление в районе к северу от Страсбурга. Ее танковые части форсировали Рейн и захватили небольшой плацдарм на левом берегу. Одновременно началось наступление к югу от Страсбурга. Активные действия противника серьезно обеспокоили союзное командование. Главнокомандующий экспедиционными силами должен был учитывать возможность нанесения удара на северном участке фронта. К тому же разведка канадских войск доносила, что следует считаться с наступлением противника на Нижнем Маасе, где на 30-километровом фронте оборонялась лишь одна дивизия — польская бронетанковая.
Неблагоприятно для союзников складывалась обстановка в Арденнах. На северном фасе арденнского выступа, на участке севернее Рошфора, Оттона, четыре дивизии 1-й американской армии пытались прорвать немецкие позиции с последующим продвижением на юг — на соединение с 3-й американской армией. Однако, встретив серьезное сопротивление и продвинувшись на отдельных участках всего на глубину 1—3 км, они вынуждены были отказаться от своих намерений.
4 января на южном фасе выступа в районе Бастони американские войска подверглись сильному натиску со стороны противника. Действовавшие здесь соединения 5-й танковой армии нанесли удары на нескольких участках, имея задачу снова окружить Бастонь. 6-я бронетанковая дивизия оставила свои позиции на северном участке.
Удержание германскими войсками арденнского выступа, налет крупных сил немецкой авиации на аэродромы союзников, наступление в Эльзасе давали основание считать, что противник может предпринять активные действия на других направлениях. В своем оперативном донесении военному министерству США от 7 января генерал Эйзенхауэр сообщал: «Операции, ведущиеся в настоящее время, характеризуются своеобразным фанатизмом «германского чудовища», или немецким неистовством, и я не сомневаюсь, что немцы предпринимают максимальное и решительное усилие с целью достижения победы на западе в возможно кратчайший срок. Битва в Арденнах является, по моему мнению, только эпизодом, и мы должны ожидать попыток противника нанести удары в других районах».
Главное командование союзных войск пыталось предпринять меры с целью изменения обстановки в свою пользу. Эйзенхауэр, не располагая значительными резервами, обратился в Вашингтон с просьбой срочно направить в Западную Европу дополнительные контингенты войск. Ему было обещано в ближайшие два месяца ускорить переброску одной воздушно-десантной, трех бронетанковых и трех пехотных дивизий из Англии, а также направить дополнительно из США две пехотные дивизии. Одновременно изыскивались силы и средства на самом фронте. На тотальные меры гитлеровских войск Эйзенхауэр предлагал ответить соответствующими усилиями. С этой целью намечалось: во-первых, произвести «вычесывание» из тыловой зоны и подразделений военно-воздушных сил армии личного состава, который следовало обучить и подготовить для передачи в боевые части; во-вторых, всячески экономить силы и средства; в-третьих, осуществить широкое привлечение французских войск, а также максимально использовать трофейное имущество.
Однако все эти мероприятия могли повлиять на изменение обстановки лишь через какое-то время. В тот момент, чтобы облегчить положение на западном фронте, оставалась единственная возможность, как считало высшее военное и политическое руководство США и Великобритании, — это крупное наступление Советской Армии, которое заставит немецко-фашистское командование перебросить силы с запада на восток и тем самым создаст предпосылки для возобновления активных действий западных союзников. «Напряженность обстановки могла бы быть во многом снята, — писал Эйзенхауэр в военное министерство США, — если бы русские предприняли крупное наступление...»
6 января британский премьер-министр посетил командный пункт Б. Монтгомери. Прибывший сюда же Д. Эйзенхауэр объяснил Черчиллю, с каким нетерпением он ждет помощи от русских. Глава английского правительства вполне разделял его мнение. В тот же день У. Черчилль в личном и строго секретном послании И. В. Сталину писал, что на западе после временной потери инициативы идут очень тяжелые бои и это обстоятельство может повлечь за собой большие решения. Черчилль просил ответа на волнующий его вопрос, в котором содержалась просьба о том, чтобы Советские Вооруженные Силы побыстрее предприняли крупное наступление на Висле или где-нибудь в другом месте. В ответном послании от 7 января И. В. Сталин заверил, что, несмотря на трудные погодные условия, Ставка Верховного Главнокомандования решила не позднее второй половины января открыть широкие наступательные действия по всему центральному — советско-германскому фронту. Когда британский премьер сообщил эту новость главнокомандующему союзными войсками, тот в ответной телеграмме от 10 января писал: «Ваша новость является наиболее ободряющей».
Начавшееся ранее первоначально запланированного срока мощное советское наступление спутало все карты немецко-фашистского руководства. Оно вынуждено было отказаться от активных действий на западе и срочно перебрасывать силы на восток. Благодаря этому американо-английские войска в Западной Европе вышли из кризисного положения и могли готовиться к новым операциям. «Важное известие о том, что доблестная Красная Армия новым мощным рывком двинулась вперед, — телеграфировал 14 января Д. Эйзенхауэр начальнику Генерального штаба Советских Вооруженных Сил, — воспринято союзными армиями на западе с энтузиазмом. Я выражаю Вам и всем, кто руководит этим великим наступлением и участвует в нем, мои поздравления и наилучшие пожелания». Высоко оценивая наступление Советской Армии и влияние этого фактора на изменение обстановки на западном фронте, У. Черчилль 16 января заявил членам английского парламента, что «противнику войска нужны не только для поддержки наступления на Западе, но еще больше для того, чтобы заполнить ужасающие бреши, возникновение которых мы только сейчас осознали, бреши, созданные на Восточном фронте в результате великолепного натиска основных сил русских армий по всему фронту — от Балтики до Будапешта. Маршал И. В. Сталин весьма пунктуален. Он скорее опережает свои сроки, чем отстает от них в комбинированных действиях союзников».
Начало наступления советских войск стимулировало переход союзных экспедиционных сил на западном фронте к более энергичным действиям. 13 января командующий 3-й американской армией Дж. Паттон отмечал в своем дневнике, что к этому времени моральное состояние солдат и офицеров существенно изменилось: если раньше они сомневались в возможности остановить немецкое наступление, то теперь почувствовали себя победителями. В этот день перешли в наступление соединения 1-й американской армии с северного фаса арденнского выступа, а 3-я армия — с южного.
Германское командование уже не помышляло более об удержании позиций в Арденнах. 14 января Гитлер отдал приказ об отводе соединений группы армий «Б» на новую линию обороны к востоку от Уффализа. Одновременно он приказал начать переброску 6-й танковой армии СС на советско-германский фронт. Только с 15 по 31 января было переброшено 8 немецких дивизий, в том числе 4 танковые и моторизованная (в их составе насчитывалось 800 танков и штурмовых орудий). Интенсивно осуществляя эти мероприятия, верховное главнокомандование вермахта направляло на запад сравнительно незначительные пополнения. Так, за январь туда был отправлен 291 танк, а на советско-германский фронт — 1328 танков.
Войска 1-й и 3-й американских армий, наступавшие с северного и южного фасов арденнского выступа, 16 января соединились в районе Уффализа, отрезав до 20 тыс. немцев, которые не успели отойти на новый рубеж обороны и вскоре были взяты в плен. Изменение обстановки в Арденнах в пользу западных союзников позволило главнокомандующему 18 января возвратить 1-ю американскую армию в 12-ю группу армий; 9-я американская армия осталась в 21-й группе армий, чтобы в ее составе участвовать в продвижении к Рейну. Немецко-фашистские войска так и не смогли закрепиться к востоку от Уффализа и под давлением союзных сил продолжали отход в восточном направлении. К 28 января они откатились на позиции, с которых почти полтора месяца назад начали наступление в Арденнах.
В течение января гитлеровские войска предпринимали неоднократные попытки добиться успеха на эльзасском участке фронта. В результате наступления группы армий «Верхний Рейн» к северу и югу от Страсбурга, начавшегося 5 января, союзные войска к 13 января отошли от Рейна на 10—15 км, при этом соединения 7-й американской армии отступили к Вогезам, за реку Модер. Передовым частям немецких войск удалось форсировать эту водную преграду и захватить плацдарм на правом берегу. Однако в условиях начавшегося наступления Советской Армии немецко-фашистскому командованию не приходилось рассчитывать на развитие дальнейших успехов в Эльзасе. После того как 25 января войска 7-й армии отбили в этом районе еще одну попытку вермахта прорвать фронт обороны, инициатива окончательно перешла к союзникам. К концу месяца соединения 7-й американской армии отбросили противника в долине реки Модер на ряде участков фронта. В конце января группа армий «Верхний Рейн» была расформирована, а ее командующий рейхсфюрер СС Гиммлер со всем штабом убыл на восточный фронт командовать созданной там группой армий «Висла».
Во второй половине января — начале февраля войска 1-й французской армии провели операцию по очищению кольмарского мешка. Замысел ее состоял в том, чтобы, используя охватывающее положение, нанести удары на северном и южном фасах выступа, разгромить врага и выйти на реку Рейн. 1-й корпус 1-й французской армии в составе четырех дивизий должен был наступать от Мюлуза в общем направлении на Брейзах, а 2-й корпус (три пехотные и бронетанковая дивизии) имел задачу наступать из района 20 км севернее Кольмара, чтобы обойти его с севера и востока и выйти на Рейн к северу от Брейзаха.
В середине января на Верхнем Рейне оборонялась 19-я немецкая армия, которая располагала 13 дивизиями и танковой бригадой. В кольмарском мешке находилось до 8 дивизий, а остальные соединения занимали правый берег Рейна к северу и югу от плацдарма. Общая протяженность линии фронта кольмарского мешка составляла около 150 км, половина ее приходилась на гористую, труднопроходимую местность. Наблюдение за горными участками осуществляли две германские дивизии, на северном фасе плацдарма оборонялись четыре, а на южном две дивизии.
Соединения 1-го французского корпуса 20 января начали наступление из района Мюлуза в северном направлении. За десять дней они смогли продвинуться всего на глубину 4—5 км, хотя понесли при этом значительные потери. Бронетанковая дивизия, например, потеряла половину танков. Не добился сколько-нибудь заметных успехов и 2-й французский корпус, который на два дня позже предпринял наступление на северном фасе выступа. За пять дней непрерывных атак упорно сопротивлявшийся противник был здесь оттеснен лишь на 5—8 км. Это объясняется также тем, что из-за плохой погоды авиация не смогла оказывать наземным войскам должную поддержку, а наступление начиналось на узком участке передовыми частями всего одной дивизии.
Для выполнения задачи по ликвидации кольмарского мешка Д. Эйзенхауэр усилил 1-ю французскую армию американским корпусом в составе трех пехотных и бронетанковой дивизий. 29 января этот корпус перешел в наступление. После нескольких дней ожесточенных боев сопротивление противника было наконец сломлено. 3 февраля американские войска заняли Кольмар, а два дня спустя они соединились с частями 1-го французского корпуса. В результате наступления по сходящимся направлениям остатки четырех германских дивизий были окружены и пленены, другая половина группировки, понеся значительные потери, отошла на правый берег реки Рейн. К 9 февраля кольмарский мешок был ликвидирован, и 6-я группа армий вышла на Рейн на участке от швейцарской границы до района севернее Страсбурга.
Таким образом, в результате сокрушительных ударов Советских Вооруженных Сил гитлеровское командование вынуждено было отказаться от продолжения активных действий на западе и срочно начать переброску сил на советско-германский фронт. Эти обстоятельства, а также восстановление американо-английскими войсками рубежа, который они зажимали накануне Арденнской операции, резко изменили обстановку в пользу союзников. Хотя в ходе Арденнской операции обе стороны понесли значительные потери, факт этот имел неодинаковые последствия. Западные союзники, располагая громадными ресурсами, способны были быстро восполнить свои силы, в то время как германское командование не только не могло компенсировать потери, но и вынуждено было намеренно сокращать силы на западе для спасения положения на востоке.
После начала наступления советских войск с рубежа реки Висла и очевидного провала планов немецко-фашистского командования на западном фронте оно стало активно зондировать почву для сговора с западными державами на антисоветской основе. По мнению западногерманского историка Р. Гансена, Гитлер очень надеялся на раскол антифашистской коалиции, который должен был привести к мировому политическому перелому и новой фазе второй мировой войны — военному столкновению Англии и США с Советским Союзом. Он пытался добиться этого не только средствами пропаганды, но и дипломатическими акциями. Несмотря на то что фюрер запретил какие-либо дипломатические контакты с Западом, в первой половине января он разрешил министру иностранных дел попытаться вступить в переговоры с западными странами при условии, чтобы «не заходить слишком далеко и чтобы Риббентроп нес персональную ответственность». Очевидно, «Гитлер дал это разрешение, — добавляет Гансен, — под впечатлением уже явно надвигающейся военной катастрофы».
Оценивая сложившуюся в конце января 1945 г. военно-политическую обстановку и позицию гитлеровской клики, генерал Типпельскирх впоследствии писал: «Если вообще стоило продолжать войну, то разве лишь для того, чтобы остановить красный поток на востоке и по возможности отбросить его назад. Была надежда, что все же удастся найти какую-то общую политическую линию с западными державами, пока на востоке еще не прорваны последние заслоны». Из стенограммы совещания в ставке Гитлера от 27 января следует, что верховное главнокомандование вермахта надеялось на возможность изменения американо-английской позиции. «Не в интересах англичан, — заявил Геринг, — чтобы мы их прижали к стене и позволили бы между тем русским захватить всю Германию. Если события будут так развиваться и дальше, то через несколько дней мы получим телеграмму». В ставке надеялись, судя по контексту стенограммы, получить сообщение от союзников относительно их желания вступить в переговоры о заключении перемирия. Однако подобные ожидания явились беспочвенными и иллюзорными. Спустя несколько дней после этого совещания в ставке Гитлера руководители государств антигитлеровской коалиции собрались на конференцию в Ялте, где приняли решения, противоположные расчетам фашистских стратегов.
Обстановка к концу января на европейских фронтах второй мировой войны побуждала западных союзников к неотложному определению характера дальнейших операций и принятию соответствующих решений. 20 января, когда стало известно, что Советские Вооруженные Силы добились блестящих успехов, а немецко-фашистские войска в Арденнах отходят на исходные позиции, главнокомандующий союзными армиями сформулировал замысел стратегического наступления. Предусматривалось разгромить противостоявшие немецко-фашистские войска и выйти в центральные районы Германии. Операции по достижению конечных целей предполагалось осуществить в три этапа. На первом этапе имелось в виду уничтожить группировку противника в междуречье Мааса и Рейна с прорывом линии Зигфрида и выходом на широком фронте к реке Рейн; на втором — создать достаточно мощные плацдармы на правом берегу этой реки для развития с них наступления в глубь Германии; на третьем — нанести удары с захваченных плацдармов по сходящимся направлениям, окружить и уничтожить (пленить) рурскую группировку противника, овладеть Рурским промышленным районом, а затем, развивая наступление на восток, к реке Эльба, выйти к Берлину.
Обсуждение и утверждение планов ведения войны союзными вооруженными силами на западе явилось одним из основных пунктов повестки дня конференции высших государственных и военных руководителей США и Англии, которая проходила на Мальте с 30 января по 2 февраля 1945 г. В ходе переговоров Черчилль подчеркнул нежелательность того, «чтобы русские оккупировали в Западной Европе больше того, чем это необходимо».
На заседаниях Объединенного комитета начальников штабов выявились острые разногласия между американцами и англичанами, особенно по вопросу сосредоточения основных усилий войск в предстоявших наступательных операциях. «Споры были столь ожесточенными, — писал американский историк Р. Шервуд, — что даже Маршалл, самый сдержанный и самый спокойный, заявил, что, если английский план будет утвержден премьер-министром и президентом, он рекомендует Эйзенхауэру подать прошение об отставке». Суть возникших разногласий заключалась в том, что английская сторона настаивала на проведении активных действий на северном участке западного фронта (с задачей обойти Рур с севера) и далее двигаться к Берлину. Черчилль и его советники опасались, что сосредоточение основных усилий на других направлениях помешает занять территорию Голландии и Северной Германии и не даст возможности упредить Советскую Армию с выходом к Берлину.
Представители американского военного руководства, усматривая в такой стратегии принижение вклада своих вооруженных сил, настаивали на одновременном нанесении двух ударов: одного — на северном участке, считая его хоть и главным, но не единственным, и второго — силами американских армий к югу от Рура в районе Франкфурта-на-Майне. Американцы, стремясь не показывать, что в основе их плана лежит элемент престижа, в качестве основного довода выдвигали оперативные соображения. Начальник штаба главнокомандования союзных вооруженных сил в Западной Европе генерал У. Смит заявил, что из-за отсутствия полной гарантии успеха в наступлении на северном участке фронта удар американских армий на юге кроме отвлечения значительных сил противника, прикрывавших весьма важный франкфуртский район, представлял бы «дополнительный фронт наступления на случай, если главный удар потерпит неудачу».
После бурного обсуждения вопросов ведения предстоящих операций на западном фронте англичанам пришлось уступить: была принята американская точка зрения. 2 февраля Объединенный комитет начальников штабов утвердил план Эйзенхауэра, основные положения которого сводились к следующему: «а) немедленно развернуть наступательные действия севернее Мозеля с задачей разгромить находящиеся здесь силы противника и выйти к Рейну севернее Дюссельдорфа; б) принять меры к уничтожению остальных сил противника западнее Рейна, которые все еще продолжают оказывать сопротивление и могут помешать... в дальнейшем при форсировании Рейна; в) создать плацдармы на правом берегу Рейна в его нижнем и верхнем течении; г) развернуть восточнее Рейна и севернее Руpa столько дивизий, сколько мы сможем обеспечить снабжением (по расчетам — около 35 дивизий); они должны будут, взаимодействуя с авиацией, отрезать от противника Рурскую промышленную область; д) сосредоточить восточнее Рейна в районе Кобленц — Франкфурт-на-Майне те силы, которые должны остаться после выделения 35 дивизий для наступления на направлении главного удара, то есть на севере, и организации прочной обороны по всему фронту. Задача этих войск будет состоять в том, чтобы отвлечь силы противника с севера, для чего они должны будут сначала овладеть Франкфуртом-на-Майне, а в дальнейшем наступать на Кассель». Опасаясь, что Советские Вооруженные Силы, вышедшие к реке Одер, смогут собственными силами победоносно закончить войну в Европе, военно-политическое руководство США и Великобритании решило сосредоточить основные усилия на западном фронте. В материалах конференции на Мальте было указано, что правильный курс состоит в укреплении решающего западного фронта за счет Средиземноморского театра военных действий.
На итальянском фронте сложилась следующая обстановка. После неудачных попыток союзных войск осенью 1944 г. разгромить противника и выйти в долину реки По наступило длительное затишье. Положение немецко-фашистских войск в Италии осложнялось тем, что на оккупированной ими территории широко развернулось движение Сопротивления. По инициативе и под руководством коммунистической партии итальянские силы движения Сопротивления были объединены в единую партизанскую армию, которая приковывала к себе пятую часть немецко-фашистских регулярных войск, находившихся в Италии.
В начале 1945 г. в Италии продолжала действовать группа армий «Ц» под командованием генерала Г. Фитингофа в составе армейской группы «Лигурия» (14-я армия и 75-й отдельный армейский корпус) и 10-й армии.
Союзные войска в Италии к этому же времени объединялись в 15-ю группу армий под командованием американского генерала М. Кларка. В нее входили 5-я американская и 8-я английская армии. Военно- воздушные силы, предназначавшиеся для действий в этом районе, базировались на аэродромы Апеннинского полуострова, Сицилии, Сардинии, Корсики, Мальты, а частично и Северной Африки.
Планы союзного командования предусматривали в первые месяцы 1945 г. ведение лишь оборонительных действий. Командующий 15-й группой армий еще в декабре 1944 г. «решил, что в связи с недостатком людей и боеприпасов его армии в Италии будут вынуждены бездействовать до весны 1945 года и что поэтому основное внимание придется пока уделять действиям авиации на коммуникациях противника, связывающих его с Германией, в то время как наземные силы ограничатся действиями местного характера и будут готовы использовать отвод противником своих сил с фронта».
Немецко-фашистское верховное главнокомандование, основное внимание которого было сосредоточено на попытках сдержать наступление Советской Армии, и не помышляло об активных действиях на итальянском фронте. Заняв выжидательную позицию, оно вело интенсивную подготовку, чтобы путем закулисных переговоров добиться сепаратного мира с США и Англией в Италии.