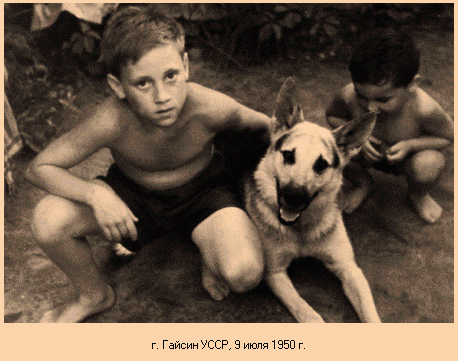Жил я славно в первой трети
Двадцать лет на белом свете — по учению.
Жил безбедно и при деле,
Плыл, куда глаза глядели, — по течению.
Людмила Абрамова, вторая жена Высоцкого и мать его детей, отмечает очень важный момент, без которого нет правильного понимания происхождения творчества. Речь идет о феномене памяти.
Слово Абрамовой:
«Володя фиксировал в памяти вне сознания. Володя мог сидеть и разговаривать, не прислушиваясь к тому, что говорят сзади него. Он мог сидеть и балагурить в общежитии, когда кто-то готовился к экзаменам… Он мог копать в носу и сочинять дурацкие куплеты на лекциях, а потом шел на экзамен, и оказывалось, что он знает все лучше всех. Помнит такие детали, какие не помнит никто. Он сам это ощущение страшно любил, когда вспоминал что-то такое, на чем не фиксировал свое внимание. Страшно любил вспоминать слова, которые никогда не слышал. Иногда он не был уверен в своей памяти, вот, например: «Долго Троя в положении осадном...»
...А в ту ночь дуплетом родилось: «Троя про Кассандру» и «Песнь о вещем Олеге», — так у Володи бывало. И вместо того чтобы смотреть в энциклопедии, мы сразу позвонили нашим знакомым Евдокимовым, а потом поехали к ним, там все проверили.
Володя любил вспоминать, как он сдавал философию, не прикасаясь ни к книгам, ни к конспектам:
— Прихожу, открывается дверь в стене, и я все помню.
Очень своеобразный феномен – Володина память. Причем он своеобразен не только как воспоминания о великом человеке, но и как медицинский феномен, а может и клинический.
Память поэта – не энциклопедия, она прежде всего ассоциативна, она вмещает в себя и точные знания, и впечатления, и отголоски прочитанных книг, фрагменты увиденных фильмов, обрывки разговоров, соединяя память привычки с памятью духа. Такая память присваивает беззастенчиво и чужое, формирует эйдосы, то есть образы, способные детально воспроизводить целые предметные сцены и ситуации и переживаться, как подлинные события. В принципе, это умеют делать все дети, а вот из взрослых лишь немногие художники, музыканты, поэты. И, конечно, сумасшедшие.
Психоаналитику вообще искусство видится неким средним местом между сновидением и неврозом. А Зигмунд Фрейд уточняет, что в основе поэтического творчества, так же как в снах и фантазиях, лежат неудовлетворенные желания, часто такие, которых мы стыдимся, которые мы должны скрывать от самих себя и которые поэтому вытесняются в область бессознательного.
Гоголь признавался, что наделял своих героев собственными недостатками и дурными влечениями, избавляясь таким образом от своих пороков. То же говорят и пишут о Шекспире (кто бы ни скрывался под этим именем) и о Достоевском, считая, что их творчество – результат терапевтического самолечения. Как жизнь, так и творчество Достоевского загадочны... – писал в 1925 году исследователь Нейфельд. – Но волшебный ключ психоанализа раскрывает эти загадки... Вечный Эдип жил в этом человеке и создавал эти произведения.
Систему нетрудно при желании приложить и к Высоцкому, да еще на фоне его неупорядоченной жизни. Например, его лирический герой – это юный возлюбленный матери-родины, ненавидящий государство-отца и желающий его смерти. Кстати, отец персонифицирован в лице Иосифа Сталина, как у всех комплексующих шестидесятников.
«Удивительно, до какой степени можно свести все человеческие влечения к одному», — сетовал немецкий поэт и драматург XIX века К. Ф. Хеббель. Он еще не знал, что скрывается на самом деле за строчками стихов, воспевающих романтику юношеской дружбы. Это ясно теперь, в ХХ веке, с развитием психоанализа. Нам «объяснили», в какие одежды может рядиться крайний гомосексуализм. Имея подобную точку зрения на мир, совершенно невозможно, например, рассказать о компании, образовавшейся в Большом Каретном переулке в пятидесятых – шестидесятых годах. Благо, авторы воспоминаний – в основном нормальные советские люди, недополучившие образования и Фрейда с детства не читавшие. По крайней мере, никто не хихикает мерзко, когда вспоминает молодых людей, идущих, обнявшись за плечи, в сад «Эрмитаж» в свободное время.
«Большой Каретный был центром нашей юности, причем нравственно чистым, — пишет в книге «На Большом Каретном» профессор права Анатолий Утевский. – Очевидно, здесь больше заслуга семьи, чем школы. Рядом была Малюшенка, Лихов переулок с хулиганскими компаниями, со своим почти уголовным миром. Но для нас все это было где-то рядом, где-то существовало, о чем знали понаслышке, но не более. И если считают, что на творчество Высоцкого оказала влияние блатная среда, то это не так, это все домыслы.
«Первые мои песни, — говорил сам Владимир Семенович, — это дань времени, так называемые «дворовые» городские песни. Еще их почему-то называли блатными. Это дань городскому романсу, который к тому времени забыли. И у людей, вероятно, оставалась тяга к простой человеческой интонации. Эти песни бесхитростные... В каждой из первых песен была одна, как говорится, но пламенная страсть: извечное стремление человека к свободе, к любимой женщине, к друзьям, к близким людям, надежда на то, что его будут ждать. Помните эту песню: «За меня невеста отрыдает честно, за меня ребята отдадут долги...»? Это о друзьях, это очень мне близко. Я и сам в то время точно так же к дружбе относился, да и сейчас стараюсь. Так оно, в общем, и осталось: я жил, живу и продолжаю жить для своих друзей и стараюсь писать для них, даже для ушедших и погибшим.
Память поэта избирательна – она старательно обходит те самые «забытые заржавленные мины», которые, по мысли Фрейда, только и дают творчеству питательную почву. «Да зачем вам факты моей биографии!» – снова и снова в сердцах восклицает Владимир Семенович, вполне для себя осознав несоизмеримость темных уголков прошлого с тем зданием, которое он строит уже долго и осознанно. К тому времени, когда журналистам и поклонникам станут важны любые мелочи его жизни, еще вчера неинтересные и для самых близких людей, Высоцкий сформировался как художник социальный, как историческая личность, подобная Петру Алексеевичу Реформатору. Он всколыхнул глубинные народные пласты, поставил перед собою цель невозможную, царскую – исправлять нравы народные. А его спрашивают, что он ел на ужин!..
...Постоянно ощущались неприкаянность, одиночество, горечь ненужности. Было и холодно, и голодно. И не только в войну в эвакуации, но и здесь, в Москве, в родном доме. Впрочем, родных домов у него не было никогда – в прямом смысле этого слова, в том числе и после 1975 года, когда въехал в собственный кооператив на Малой Грузинской улице.
Когда хочется есть, иногда помогает мысль, что виноваты обстоятельства, а не люди, а если и они, то ведь не от жадности, уж тем паче не от бедности, а так – от невнимательности, что ли? И то право, возвращаясь к загадкам творчества художник, по определению, должен быть голодным. Пусть в тарелке Пушкина что и было, но в те времена и холопы его ели с ним из одного котла. Он раньше, они попозже. А стихи писал Пушкин. Правда, никто не будет утверждать, что Тынянова читать неинтересно. И «донжуанский список» Александра Сергеевича пользуется спросом во все времена. Интересно же, кому посвящены такие-то стихи? А что до того они вместе с этой К*** делали?.. И пускается в изыскания подлая мысль...
Откуда взялся поэт Владимир Высоцкий? От папы с мамой, которым «святители дунули да плюнули»? Думается, нет. от них произошел, в лучшем случае, инженер-строитель, пописывающий стишки, посещающий драмкружок или литобъединение, пощипывающий на кухне гитарные струны в кругу друзей и умненькой жены, отпуск проводящий на байдарке, а выходной за городом с детьми. «Физиколирик» из шестидесятых, поклонник Булата и Андрея, и Беллы с ними, коротающий ночь на раскладушке у подъезда Театра на Таганке с фиолетовым номером очереди на ладони, любитель симпозиумов с выездом куда угодно за пределы Садового кольца, мало получающий, поругивающий законы, но гордый «особенной гордостью» советского человека, автор многочисленных рационализаторских предложений, не внедренных до сих пор исключительно из-за происков начальства, мечтающий бросить все и уехать в Магадан, где живут другие люди но никогда не желавший эмигрировать в Израиль... Кстати, очень милый человек. «Способный – способен во всем, — сказал Монтень, — даже пребывая в невежестве».
Это коллективный портрет тех, кто остался в живых. Другие – умерли от пьянства, тоски, ножа сердечной недостаточности, покончили с собой и уехали за границу, где тоже умерли от сердечной недостаточности, кстати, совершенно неизвестной в прошлом болезни.
Именно поколение милых, умных и добрых людей шестидесятых годов выразило собою вполне ту историческую усталость народа, которая была следствием и результатом предыдущих десятилетий культивации страха и изнурительного напряжения нервов. Они гордились неучастием и ничегонеделанием, сочувствовали диссидентству и ждали явления мифических «комиссаров в пыльных шлемах», развращали деревенский народ массовыми «выездами на картошку» и научились талантливо рассказывать анекдоты, умело внедряемые через местных «шестерок» мастерами манипуляции массами. Они никогда не смогли бы восстать, но своим человеческим материалом унавозили вполне почву для катаклизма перестройки, искренне потом удивляясь масштабам открывшегося разложения.
Откуда же взялся поэт Высоцкий? От какого такого духа времени? Духу этому он вовсе не соответствовал. Рассеянное воспитание не способствовало развитию такого таланта, пусть и с подлинными задатками. Это был исключительно этический поэт в эпоху общего падения нравов.
Так откуда же? Есть очень простой ответ – от Господа Бога.
Как ни странно, такое объяснение устраивает нынче и закоренелых атеистов: вроде как и объяснять ничего не надо. И все же необходимо продолжить размышление. У Владимира Высоцкого была идея – это отмечают близкие люди, знавшие его с детства. Этим он отличался от сверстников и вызывал интерес у взрослых. Ну, конечно, не такая идея, как у Аркаши Долгорукого из романа Достоевского «Подросток», но тоже связанная с накоплением определенного капитала для достижения власти и свободы. Средством к осуществлению идеи у Володи стало приращение таланта – того самого, евангельского, коим одаряют всех без разбора и одной мерой, но который в землю зарывать не рекомендуется. Так вот, талант свой Володя Высоцкий исключительно удачно пустил в оборот с раннего детства, но не в рост, а в эксплуатацию.
Жизнь Владимира Высоцкого на самом деле есть прекрасный пример целеустремленности. А как же, спросите вы, бесчисленные шатания и плутания? Постоянные поиски места – и для работы, и для жизни? Любвеобильность, мягко говоря? Ошибки с женами? Неудачи в кино? Да и в песнях – метания от блатных романсов к военным песням, к шуточным, спортивным, песням-сказкам? Всеядность в интересах, увлечениях и знакомствах, близкая к неразборчивости? Наконец, болезненная зависимость от алкоголя и наркотиков. Внезапный конец. Если говорить о целеустремленности, то она другого рода, да и называется саморазрушением, не правда ли?..
Конечно, ни одну живую жизнь невозможно уложить в школьный пенал. Но великий Гете, описывая годы учения Вильгельма Мейстера, заметил, что юноша, плутающий по собственному пути, милее ему тех людей, которые уверенно идут по пути чужому.
Время показало, что Владимир Высоцкий шел своим собственным путем.
«Пишу я очень давно. С восьми лет писал я всякие вирши, детские стихи про салют. А потом, когда стал немножко постарше, писал всевозможные пародии», — рассказывал Владимир Высоцкий.
Красавчик, сердцеед, гуляка,
Всем баловням судьбы под стать...
Вообразил, что он Плевако,
А нам, на это – наплевать!
Это посвящено Анатолию Утевскому, ставшему студентом юридического факультета МГУ. Когда Анатолий Борисович писал свои воспоминания, он был уже доктором юридических наук, профессором милицейской академии, но эпиграмму в книжку включил. Видно, написано было не в бровь, а в глаз...
«Помнится, в пятидесятых годах были модны узкие брюки-дудочки, из-под которых выглядывали пестрые носки, ботинки на толстой ребристой подошве, яркие широкие галстуки с красоткой в чаше бокала либо обезьяной на пальме, длинные пиджаки с широкими подкладными плечами, а на голове тщательно взбитый кок. И я был, как и многие из моих знакомых и приятелей, так одет. Иногда собирались мы в коктейль-холле на улице Горького. Хорошим тоном считалось прошвырнуться по Бродвею – по улице Горького (ныне снова Тверской), где всегда можно было встретить кого-нибудь из знакомых. Модно одетых ребят называли тогда стилягами, о них писали фельетоны, снимались комедии. Ретивые администраторы даже запрещали в таком виде появляться в общественных местах. И никто не хотел понять, что мы не шпана, что это как болезнь – дань моде, своеобразная встряска; что этим нужно переболеть и тогда шелуха отвалится сама. Мы танцевали буги-вуги, крутили самодельные пластинки, записанные на использованных рентгеновских снимках-«ребрах». Как я понимаю, все это было «по бедности»...» — пишет в книге Утевский.
К этому времени относится и его знакомство с Кочаряном, уже дипломником и живой легендой юрфака. Тот был человеком незаурядных возможностей и колоссальной воли. Он умел все: чинить вещи и ломать препятствия, готовить изысканные кушанья и есть фужеры из стекла, ловить страшных бандитов и с особенно страшными дружить, вести ученые беседы и драться головой; быть нежным и внимательным к друзьям и беспощадно жестоким с врагами. Ему все прощали и друзья, и враги, потому что он был естественен, как герой восточного эпоса.
Сын известного рассказчика Сурена Акимовича Кочаряна, народного артиста Советского Союза, в нем был неистребим артистизм и вкус к богемной жизни. В 1947 году он начинал карьеру в Институте востоковедения – примечательном учебном заведении, вскоре закрытом по «высочайшему повелению» и преобразованном впоследствии в Институт стран Азии, Африки и Латинской Америки. Его недолгими студентами были Юлиан Семенов, Олег Савосин, Борис Королев, Владимир Цветов, известный потом специалист по Японии.
Уже тогда Лева всем запомнился, а в бытность свою работником Московского уголовного розыска стал прототипом нескольких милицейских романов. Про него писал первую свою книгу «Петровка, 38» Юлиан Семенов, принесший ее на суд Кочаряну. Другой детективный писатель, Анатолий Степанов, редактор «Мосфильм», списал с него одного из главных героев большого цикла о сыщиках, лишь слегка изменив имя и детали биографии, но зато продлив ему жизнь в своих книгах на полтора десятка лет.
Реальный Кочарян поработал в МУРе, окончил Высшие оперативные курсы и все же ушел в кинематограф, вскоре став незаменимым на «Мосфильме» вторым режиссером – «первым среди вторых». Он успешно работал с такими зубрами профессии, как Сергей Герасимов и Александр Столпер, был на короткой ноге с Константином Симоновым и Михаилом Шолоховым, принимал в своем доме космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова. Впрочем, список может быть продолжен до бесконечности.
«Левон был душой Москвы тех лет: его знали и любили люди разных возрастов и профессий – грузчики, писатели, кондукторы трамваев, жокеи, актеры, профессора, летчики: он обладал великолепным даром влюблять в себя сразу и навсегда», — отмечал Юлиан Семенов.
Будучи раз в гостях у Качарянов, Гагарин по-свойски задал Инне Кочарян вопрос:
— Инуля, ты хоть понимаешь, за кого ты вышла замуж?
— Юра, может, ты спросишь по-другому? На ком Лева женился? – в тон ему задала встречный вопрос Инна Александровна, взметнув брови и глядя сверху вниз на малогабаритного и простоватого космонавта номер один.
— Да брось ты, — махнул на нее рукой Юрий Алексеевич. – Красивых баб много... Но ты-то хоть понимаешь? – и глядел влюбленно на Леву, царившего на другом конце стола.
И кстати... Примчался в тот вечер Володя Высоцкий. Они много говорили с Гагариным. Действительно, был задан и такой вопрос: «Ну, как там в космосе?» И ответ получен: «Страшно». Так все и было.
А кончилось наутро жутким скандалом. Приходит Владимир и что-то ищет в комнате, где вчера стол был накрыт.
— Инна, тут салфетка лежала…
— Какая салфетка – я все выбросила.
— Как?! Я на ней песню написал!.. – Володя даже затрясся.
— Что ты на меня орешь?.. Кто же на салфетках песни пишет?
— Я! – кричит Высоцкий.
Так и пропала песня. Но дружба с космонавтами продолжалась. Уже после смерти Владимира, в 1987 году, Георгий Гречко прочел написанное в семидесятые годы стихотворение «Первый космонавт»:
— Я был потрясен! Там все правда. Мне казалось, что это сделать невозможно, не побывав в космосе... А Высоцкий все понял. Я трижды летал, но даже в прозе, даже приблизительно не смог бы это так выразить.
Георгий Гречко убежден, что это было лишь начало большой «Поэмы о космонавте».
Песни рождались по-разному, часто – из ахматовского «сора», из окурка «с-под платформы черте-с-чем напополам»... Переплавленные свинцовые стружки в тигле поэзии превращались в золото истинных чувств и страстей, в другую новую жизнь — немножко смешную, слегка грустную, но неожиданно более значительную, с каким-то выводом, выходом за пределы зримого мира.
...Шли по улице Горького, болтали, глазели по сторонам. Вдруг обрывок фразы из разговора двух военных у дверей Елисеевского магазина:
— … представляешь – Герой Советского Союза? А я-то знал, что он – тыловая крыса...
Володя напрягся на секунду – взгляд вполоборота, и все. Пошли дальше. Через несколько дней рождается песня:
Я рос, как вся дворовая шпана –
Мы пили водку, пели песни ночью, —
И не любили мы Сережку Фомина
За то, что он всегда сосредоточен...
В военкомате мне сказали: «Старина,
Тебе броню дает родной завод «Компрессор»!
Я отказался, — а Сережку Фомина
Спасал от армии отец его, профессор.
Кровь лью я за тебя, моя страна,
И все же мое сердце негодует:
Кровь лью я за Сережку Фомина —
А он сидит и в ус себе не дует!..
...Но наконец закончилась война –
С плеч сбросили мы словно тонны груза, —
Встречаю я Сережку Фомина –
А он Герой Советского Союза...
— Володя, здорово! Откуда это?..
— А помнишь, мужики у Елисеевского нам встретились... – и, конечно, никто мужиков этих не помнил, кроме него.
Та же улица Горького, год 1962. Участники – Кочарян, Утевский, их приятель Миша Кененгер. Событие – стычка с компанией крепких и крепко поддавших незнакомых парней. Конечно, Левушка их здорово побил, чем сразу превратил в пострадавших. В милиции был составлен протокол и первому дан на подпись Кочаряну. Тот взял лист, прочитал внимательно и быстро его... съел! Дежурный обомлел, налился злостью и сел писать новую бумагу, уже придерживая рукой. Не Лева исхитрился и его выхватить. И отправить в рот. И мгновенно проглотить...
...Надо думать, что с бумагой тогда было проблем больше, чем с хулиганами с высшим юридическим образованием. Третий протокол составлять не стали и выгнали на улицу любителей закусить на дармовщинку.
Володя Высоцкий не мог без восторга слушать этот рассказ. Тема быстро обрастала деталями, ее рассказывали в лицах. Через некоторое время такие же подвиги Кочарян совершил в других городах Одессе, Риге, Ростове-на-Дону... Возможно, что это уже пошли байки, но они пользовались неизменным успехом, и сам Лева никак их не опровергал.
Высоцкий хотел песню написать: «про то, как Левон съел милицейский протокол». Не написал. Зато строка: «Я недавно головой быка убил...» про Леву. Свидетелями были Толян и Вовчик, а песня появилась в одну ночь – под утро после злосчастного похода в Дом актера. Исполнение вызвало бурный восторг главного виновника. Вообще, у Левы это был коронный номер – выбрать из числа противников самого здорового бугая и уложить его одним неожиданным ударом головой.
Ну и чтобы завершить эту поистине неисчерпаемую тему – еще одно воспоминание, связанное с песней. Артур Макаров вспоминает происхождение строчки: «...бить человека по лицу я с детства не могу...»
Это случилось, однажды на Арбате — нынче пешеходной улице, по которой в ту пору ходил троллейбус, а именно на остановке троллейбуса. «Нас было двое, — рассказывал Артур Сергеевич, — я и еще один человек, не, буду называть его известную фамилию. А их, которые все начали – по-моему, из-за девушки, с которой мы ехали вместе в троллейбусе, — их-то оказалось на остановке четверо, и у всех были самые серьезные намерения с нами разобраться. Я лично никогда не отказывался в то время, только сказал своему приятелю этому – по-моему, из-за него и разгорелся весь сыр-бор – прикрывай, говорю, меня со спины. И тут же врезал тому, кто поближе оказался. Потом сразу же второму и третьему – как-никак, я профессионально когда-то боксом занимался... Ну так вот, а четвертый врезал мне прямо по уху, и весьма чувствительно.
Не буду уж говорить, как мы выкарабкались, но молчали до самого дома – я имею в виду дом Левы Кочаряна на Большом Каретном, он и был нашим общим домом, туда мы и раны зализывать сползались. И только уже за столом, в присутствии Володи и других, я задаю вопрос этому нашему приятелю... вопрос, который у меня засел в голове вместе с крепким звоном и никак не выходил. Я его спрашиваю, что он делал в тот момент, когда защищал мне спину, а я получил по уху именно со спины? И тут он всхлипывает и говорит: «Арчик, ты не поверишь, но я с детства еще никого не ударил – я человека просто не могу бить по лицу!» И тут мы все попадали со стульев на пол, а громче всех смеялся я. Потом Володя только это усилил – у него боксер на ринге так и не смог ударить своего противника».
Из этой же области происхождение строк: «А счетчик щелк да щелк – мне все равно…» и «они стояли молча в ряд, их было восемь...». Если и не личных впечатлений самого Владимира Высоцкого, то пережитых в кругу друзей, словно собственный кровный опыт.
...Сад «Эрмитаж» – особое место в биографии Владимира Высоцкого. Компания друзей знала там все тропинки, закоулки и скамейки. Вход был платным, а денег почти никогда не было, да и не принято было тратить деньги на входные билеты туда, куда и так можно попасть. Вот несколько способов...
Например, идут в кино знакомые – их билеты дают право пройти за ограду сада. Потом один билет передается в укромном месте через решетку, и вся компания благополучно попадает внутрь, пользуясь им, как эстафетной палочкой.
Знакомые билетеры – тут никаких проблем вовсе. А многие работники сада так привыкли к постоянно приходившим юношам, что даже давали им мелкие поручения: что-то донести или за порядком посмотреть. Буфетчица могла отпустить в долг бутылку пива или стакан лимонада. Веселые, всегда аккуратно одетые парни нравились всем.
Иногда Володя демонстрировал сольный номер: проходя мимо контролера с дурацким выражением на лице и перебирая пальцами особым образом, говорил, коверкая язык: «Датуйте!» – это вместо «Здравствуйте». И его никто не останавливал. Кому охота с дураком связываться.
Аркадий Свидерский учился в параллельном классе, но тоже входил в школьную компанию, которая состояла из основной тройки: Высоцкий, Акимов и Гарик Кохановский – наравне с Яшей Безродным и Мишей Горховером по кличке Граф. Вот что вспоминает Свидерский:
«...Приехала Има Суммак. Толпа на нее ломилась со страшной силой, билетов не было. Но Володя дал слово: «Мы сегодня все смотрим Иму Суммак». Я спрашиваю: «Каким образом?» – «Это мое дело». И вот он в своем знаменитом пиджаке-букле, при галстуке, подошел к переводчику и сказал: «Я хочу с нею поговорить». Каким-то путем он ее вытащил. Има Суммак вышла. Мы стоим. Володя нам: «Только не смейтесь, стойте железно». И он начал с ней говорить… Он начал с ней объясняться на каком-то наборе слов, очень похожем на английский. А произношение, имитация у него от природы великолепные! Вы знаете, она чуть, не заплакала. Она переводчику говорит: «Я не понимаю, я не улавливаю смысла, может, я диалекта этого не знаю?» Потом, через переводчика, спрашивает: «А что ему надо?» Володя говорит: «Я со своими друзьями хочу послушать ваш концерт». И тут же нам выдали контрамарки!»
«Мы просто хорошо жили, — пишет Владимир Акимов. — Весело. Дружно. А потому и не страшились никого и ничего.
В Москве, кажется в 1956-м, впервые за много лет выступает Александр Вертинский. Концерт в Театре Ленинского Комсомола. Говорить о наличии билетов, думаю, нелепо. Но еще более нелепым было для нас на Вертинского не пойти. И мы пошли, человек восемь, наша школьная еще компания.
Сориентировались быстро: перед входом народ кипит ключом, конная милиция – несокрушимыми айсбергами. Соваться туда – безнадега полная. А рядом, в арке двора, темно и тихо – это наше. Володя первым приметил пожарную лестницу – всякий опыт в конце концов пригождается. Через чердак вниз, мимо каких-то с красными повязками, оробевших до столбняка, — как нож в масло! Мы не только прошли в зал, но и нашли места. Словно специально приготовленные для всех восьмерых. Раздвинулся занавес, и появился очень высокий, в черном фраке, ярчайше белой манишке Александр Николаевич. Сутуловатый — годы, — напоминающий стареющего грифа… Как же можно было не увидеть это?
Примечательно, что концерты Вертинского организовал родственник Володи Высоцкого – Павел Леонидов. Это был один из самых ярких администраторов советской эстрады пятидесятых – шестидесятых годов. Он дал путевку в жизнь таким исполнителям, как Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Вадим Мулерман. Он был поэт – им написаны такие известные песни, как «Тополиный пух», «Школьный вальс», «Звезды России». Леонидов собирал книги, считался своим в кругу московских книжников-профессионалов. Он имел потрясающие связи и авантюризм конкистадора — и то ни другое не спасло его от эмиграции в 1974-м в Америку.
Там Павел Леонидов написал книгу, первую из трех задуманных, под названием «Владимир Высоцкий и другие» об искусстве в России двух послесталинских десятилетий. Книгу много ругали там (она вышла в Нью-Йорке в 1983 году) и здесь после выпуска ее издательством «Красноярец» в 1992 году в количестве пятидесяти тысяч экземпляров. Ругали за неточности в датировках событий и за крайний субъективизм характеристик. В книге много известных имен, и у каждого упомянутого есть повод для обиды.
Леонидов был невыдержанным человеком, он даже умер невыдержанно. Говорят, ругался с кем-то по телефону – и сердце остановилось.
Итак, слово Павлу Леонидову:
«Двадцать два концерта прошли с аншлагами. Словно Москва поняла, что это не гастроли, а – прощание. В фойе «Театра Киноактера» я впервые увидел столько русской старой интеллигенции сразу. Это был булгаковский финал: в фойе – бал при свечах, вальс – необычный, а в тихом шажке, рука об руку: духи летучие из прошлого с ладаном перемешанные. Слова нерусские на русском языке: какие-то милостивые государыни и государи, и тянет по фойе апрельским снегом и последними, гаснущими астрами, а пары шажком-шажком тихо живут назад, молодея лишь выцветшими глазами...
— Ах, Екатерина Ивановна, голубушка, вы ли это? А Петя-то, Петя, Боже мой! А помните? А я вас не видела, дай Бог памяти, сорок, нет, сорок три года. Да, да, конечно, конечно, мы все меняемся. Движение – всегда старение. Что, глаза! Ах? да что вы, дорогой мой человек, какие уж там глаза, вот Вертинский – хорош. Строен и, подумать только, через страшную гиблую пропасть мало что себя нам возвратил, но и молодости частичку возвратил. Пусть и на миг чудесный... И вот встретились же мы с вами, а могли... Не могли? Да. Не могли, не могли...
Я каждый вечер мотался в антрактах по фойе и глазел, глазел и чуть не плакал. Некоторых зрителей примечал. Они приходили по нескольку раз, а потом вдруг, кого-то из них не обнаружив, я испуганно метался и думал: «Они Ж такие русские-русские, такие. старенькие-старенькие и вдруг...?» Сжималось сердце, как во время ухода осени, но на новую осень был шанс, а на ту Россию шанса больше не было ни у кого... И у самой России...
На двадцать втором концерте было полно. Вспоминая похороны Пастернака, слушая рассказы о похоронах Высоцкого, я думаю; тот последний концерт Вертинского – прощание России с великим актером, поэтом, композитором, бардом. Не он ли русский предтеча Окуджавы, Высоцкого, Галича? Он!»
Летит авто отлично,
А в нем сидят привычно:
Два Вовки, Мишка, Гарик и таксошофер.
И ехать мне приятно
По улицам опрятным,
Тем более что еду я с друзьями на концерт!
Вот подъезжаем к ЦеДеКаЖе:
«Пой песню, пой...»
Народу у входа полно уже:
Ой-ей-ей-ей-ей-ей!
— Ваши билеты? – спросил контролер. –
Нету? Давай домой!
Акимов ответил:
— Недавно звонил вам папочка мой!..
Текст этой одной из первых песенок Володи Высоцкого на мотив попурри Леонида Утесова приводит в своих воспоминаниях Владимир Акимов. В несколько иной редакции, восстановленный Игорем Кохановским, он напечатан в сборниках.
Слово Владимиру Акимову:
«Начиналось все с того, что Володя звонил в администраторскую заведения, где должно было быть любезное нам зрелище:
— С вами говорит директор Московского цирка Байкалов. Тут мой сын с друзьями хочет к вам подойти...
Тогда на сцену выступал я, обладавший, по общему мнению, наиболее благообразной внешностью, и шел к администратору... Зимой меня экипировали с бору по сосенке, кто давал новую шапку, кто пальто, у Володи кашне было заграничное. Сбоя не произошло ни разу – фамилия директора цирка и соответствующее исполнение производили магическое действие».
Их интересовало все, даже поговорка существовала: «Мы из кружка «Хотим все знать». Им было интересно жить.
Игорь Кохановский вспоминает:
«Мы с ним сразу друг друга нашли и очень подружились на одной общей страсти – любви к литературе, в частности к поэзии.
…Я должен сказать, что Володя был очень начитанным человеком, читал он запоем. И возможно, что строчка Гумилева: «Далеко на озере Чад задумчивый бродит жираф...» — засела в нем, а потом вылилась в очень смешную песню о том, как в Центральной Африке как-то вдруг вне графика случилось несчастье, когда жираф влюбился в антилопу. Или, например, одно время мы увлекались Бабелем, знали все его одесские рассказы чуть ли не наизусть, пытались говорить на жаргоне Бени Крика… И ранний, как его называют, «блатной», а я бы сказал, фольклорный период Володи больше идет из одесских рассказов Бабеля нежели от тех историй, которые ему якобы кто-то когда-то рассказывал. И эта строка «Чую с гибельным восторгом – пропадаю…» почти парафраз строчки Бабеля. Короче говоря, мы с ним стали очень много читать стихов, начали писать друг на друга какие-то эпиграммы.
Мы подружились в восьмом классе, а мне мама накануне подарила гитару в честь окончания семилетки. И я очень быстро обучился несложным аккордам, а поскольку я знал на память почти весь репертуар Вертинского, то стал очень быстро подбирать это на гитаре, и, когда мы собирались школьной компанией, я исполнял разученное. А Володя как-то попросил, чтобы я ему показал эти аккорды. Он тогда еще не писал и не думал, что вообще будет писать... В то время были очень популярны всякие буги-буги, Луи Армстронг, и он пытался петь, копируя его. Володин хрипяще-бархатный голос тому соответствовал. А может, эту хрипоту он и приобрел, когда очень здорово и смешно в то время копировал Армстронга.
Только один эпизод из юности Володи можно хоть как-то увязать с интересом к технике... Дело в том, что уровень достатка в компании был различным, например, Толян всегда имел деньги, ему родители давали на карманные расходы. И за несколько лет собралась довольно значительная сумма, пришлось даже положить на сберкнижку. Правда, ненадолго. Стоило показать ее друзьям, как тут же Кочарян сказал, что видел в магазине спорттоваров прекрасный мопед – вещь по тем временам королевскую. Володя сразу загорелся, надо, мол, приобрести во что бы то ни стало!.. И оба уставились на Толяна с немым вопросом в глазах.
... Три дня поездили всласть, от души и кому не лень! Вот только знаменитый впоследствии, благодаря своим подопечным, участковый Гераськин придрался: мол, надо зарегистрировать машину и сдать экзамены на вождение. Ну и все, дальше дело не пошло, вернее, до этого не дошло, — захрипел мотор. Володя Высоцкий сказал, что это не поломка, а ерунда, надо его промыть, и предложил свои услуги. Мотор был разобран, промыт и снова собран, но заводиться не желал. После ремонта еще и лишние винтики с гаечками оказались. Снова мотор был разобран и собран – эффект тот же. И гаечки остались те же. И так было до трех раз, после чего мопед кому-то подарили.
Если бы отец с дедом – грозным юристом-мыловаром и полным тезкой своего внука Владимиром Семеновичем, имели понятие о профессиональном тестировании, они не заставили бы Володю идти в инженеры. Но они заставили – и еще полгода, до 1955-го, Володя жил не по своей воле.
В МИСИ имени Куйбышева Володя поступил вместе с Гариком Кохановским и благодаря ему. Сначала они вместе выбирали подходящий технический вуз по тому признаку, чей пригласительный билет красивее. В этом конкурсе победил инженерно-строительный. Второй тур состоялся в приемной комиссии, где крутились представители спортивных организаций института. Узнав, что у Игоря первый разряд по хоккею, они сказали, что дело в шляпе. «Минуточку, я с другом!» – предупредил Кохановский. «И другу поможем», — сказали они. И действительно сообщили накануне экзамена темы сочинений. Друзья добросовестно переписали выбранные сочинения дома, вплоть до ошибки «для приличия», и назавтра сдали. Получили хорошие отметки.
До сих пор «сочинение» Высоцкого «Обломов и «обломовщина» где-то хранится, изумляя шаблонностью языка и бесцветностью содержания.
Утевский вспоминает, что Володя тяготился неинтересными занятиями, с легкостью пропускал лекции. Однажды они поговорили втроем – третьим был Лева Кочарян. Сказано было примерно следующее: «Володя, не мучайся. Тебе надо поступать в театральный!» И он ушел. Хрестоматийную эту историю рассказывают все. Есть смысл послушать самого виновника:
— Родители хотели, чтобы я стал нормальным советским инженером, и я поступил в Московский строительный институт имени Куйбышева на механический факультет. Но потом почувствовал, что мне это... словом, невмоготу. И однажды залил тушью чертеж, в шестой раз переделанный, и сказал своему другу, что с завтрашнего дня больше в институт не хожу. То есть формально я ходил, чтобы получать стипендию, потому что тогда это были большие деньги – двадцать четыре рубля, но учиться перестал. А в это время я уже несколько лет занимался в самодеятельности. Но это была не такая самодеятельность, к которой мы уже привыкла, она сразу оскомину вызывает, и по ней уже прошлись у нас и в фильмах, и в прессе (Ливанов однажды спросил министра культуры: «А вы пошли бы к самодеятельному гинекологу?»). Просто люди кроме своей работы занимались еще другим делом, любимым более, чем работа. Это было хобби, которое тогда еще не оплачивалось.
Недаром Владимир Семенович оговаривается, что «это была не такая самодеятельность» — середина пятидесятых годов дала целый букет любительских театров-студий очень высокого уровня. Кроме известного «Современника» Олега Ефремова, превратившегося в профессиональный театр, такая же участь могла постичь и сильный народный театр ЗИЛа, и театр МГУ, и студию Владимира Богомолова в Доме учителя, куда с десятого класса ходил Володя Высоцкий.
Народные театры – так они именовались – однако, были обречены оставаться любительскими. Они распадались, теряя лидеров, создавались вновь на волне энтузиазма, героическими усилиями добирались до склонов государственного театрального Олимпа и снова катились вниз. Государству хватало хлопот с театрами и без этих любителей, а новоиспеченные «станиславские» должны были просто закрывать план по клубной самодеятельности.
«Сосватал» Володю в студию Богомолова тот же Утевский. Когда к нему в гости пришел Александр Сабинин (кстати, впоследствии актер Театра на Таганке), Анатолий, который знал, что его друг занимается в Доме учителя, попросил: «Послушай моего соседа снизу, Вовку Высоцкого, он потрясающе рассказывает анекдоты, прекрасно читает басни. И вообще он парень одаренный...» И вот в кабинете у Бориса Самойловича Утевского Володя прочел басню Крылова «Кот и повар». Сабинин рассказал об одаренном десятикласснике своему педагогу, а вскоре и привел Володю в старинный купеческий дом на улицу Горького, 46, напротив магазина Динамо, где на втором этаже проходили занятия.
Когда-то это была квартира домовладельца, купца первой гильдии, почетного гражданина столицы Николая Капырина. Главный зал – с высокими окнами и большими зеркалами, с мраморными колоннами и античной пластикой – становился и сценой, и репетиционной комнатой, и клубом для юношей и девушек, постигавших азы театральных принципов русского театра в системе Константина Сергеевича Станиславского. Представления «Не хлебом единым», «Безымянной звезды», «Записок вспыльчивого человека» проходили – словно в салонах XIX века – прямо на дорогом наборном паркете, сцены, как таковой, не было.
Интересно, что Владимир Высоцкий сыграл в декорациях капыринской квартиры и профессиональную свою роль. Именно здесь, в старомодном и роскошном кабинете, происходит допрос Ручечника, импозантного вора из фильма «Место встречи изменить нельзя». Наверняка, если бы не инициатива Высоцкого, диалог между ним и Евгением Евстигнеевым мог бы состояться и в другой обстановке, попроще...
А в 1956 году, вернувшись в студию, Володя готовится к поступлению в театральный вуз. Его «коронка» – чтение пьесы «Клоп» Маяковского, откуда он, по совету Богомолова, выбирает для вступительных экзаменов монолог Олега Баяна.
Владимир Николаевич Богомолов, актер Художественного театра и первый учитель Высоцкого, действительно много сделал для того, чтобы его воспитанник поступил в Школу-студию МХАТ. Но и не только. «Талант – это очень серьезно», — любил говорить Богомолов. И пытался всем духом, всей атмосферой студии закрепить малейшие проявления дара Божьего в своих учениках.
Прошло мною лет. Театр на Таганке был на гастролях в ГДР. Во время переезда на автобусе из Берлина в Росток Володя подсел к Александру Сабинину: «Сань, а ты Владимира Николаевича не встречал?.. А помнишь...» — и начал рассказывать, как репетировал с Богомоловым Вспыльчивого человека в инсценировке по рассказу Чехова. Вспомнил и проиграл целый кусочек: «В небе светила отвратительная луна, и в воздухе отвратительно пахло свежим сеном. Когда служанка спросила: «Не хотите ли чаю?» – я ей ответил: «Подите вон!»
Он воспроизвел это точно так, как когда-то делал Богомолов, протянув непрерывную актерскую линию.
...В I955 году Владимир переехал к Нине Максимовне, выписавшись из квартиры отца. В перестроенном доме номер 76 по Первой Мещанской улице Высоцким предоставили половину трехкомнатной квартиры на четвертом этаже, которую они разделят с Гисей Моисеевной и ее сыном Мишей. Володина кровать будет стоять в общей комнате, где обедали и ужинали, а то и просто собирались посудачить оба семейства.
Утевский вспоминает этот переходный период так:
«В те дни он много времени стал проводить у меня, поскольку хотел избежать неприятного разговора с отцом, но все же объяснение состоялось. О подробностях писать не буду.
Володя занимался у Богомолова. Жил то на Большом Каретном, у меня, то у матери, а летом поступил в Школу-студию МХАТа».
Существует в мемуаристике о Владимире Высоцком классический рассказ о том, как был брошен МИСИ. Устами двух очевидцев – Игоря Кохановского и Нины Максимовны – воспроизводятся события новогодней ночи 1956 года на Первой Мещанской улице.
...Согревается неоткрытое шампанское на краю стола, где друг против друга, перегородившись книгами, «Васечки» чертят учебные работы. Глубокая ночь. Относительно тихо. Скрипят перья для туши. Один из «Васечков», потянувшись онемевшим телом, говорит:
— Давай откроем шампанское. Новый год все-таки!
Второй с воодушевлением поддерживает:
— И сварим кофе, а то невмоготу уже!
Выпив шампанского, прихлебывают горячий кофе, не присаживаясь, разминая ноги.
Гарик в какой-то момент оказывается у чертежной доски друга и не может удержаться от смеха. Плоды Володиного кропотливого труда плачевны особенно надписи, сделанные как курица лапой. В нескольких местах лист испорчен кляксами. Зачет по черчению явно не проходит. Володя грустно смотрит на друга, потом берет баночку с тушью и медленно выливает остатки на ватманский лист.
— Все! — говорит он решительно. – В институт я больше не хожу. Не мое это.
В это время входит мама Нина Максимовна. Нить рассказа переходит к ней. Она видит потрясенного Кохановского, хмурого сына, залитую кофе (почему кофе? да кофе же пили мальчики!) чертежную доску. Она задает вопросы, слушает ответы. Конечно, она не согласна с решением сына, но надеется на его благоразумие. Идет вскоре в институт, после чего упрямого и нерадивого студента вызывает декан механического факультета и жестко говорит с ним... Ничего не помогает. Ни уговоры, ни авторитет отца, ни житейская мудрость деда. И мама смиряется первой. Последующее – учеба сына в Школе-студии, студенческие спектакли, первые роли в театрах и в кино – лишь подтверждает мнение завзятой театралки, не лишенной природного артистизма, в том, что Владимир выбрал правильный путь...
Такова легенда, наверное, в какой-то степени отражающая происшедшее. Единственное, что сразу бросается в глаза, — несоответствие во времени. Приказ по институту датируется 24 декабря 1955 года.
Приказ № 705. Студента 1-го курса 3-й группы механического факультета Высоцкого В. С. отчислить из института по собственному желанию. Основание: заявление студента Высоцкого В. С. от 23 декабря 1955 года».
Надо полагать, что этому предшествовало многое такое, чего в воспоминаниях нет. И уж наверняка волшебной новогодней ночью Владимир был занят не черчением курсовой. Одно несомненно – это был первый серьезный самостоятельный поступок юноши Высоцкого. Это был выбор пути.
Через двадцать два года, в перерыве между концертами в подмосковном Зеленограде, Владимира Высоцкого снимали студенты Института кинематографии.
...Он сидит в первом ряду пустого зрительного зала Дворца культуры «Микрон», отвечая на вопросы одного из организаторов концерта-встречи, активиста местного клуба самодеятельной песни. Владимира Семеновича слегка раздражает анкетность вопросов собеседника, скрывающая пустоту мыслей, но... рядом стоит кинокамера с синхронной записью звука, включены осветительные приборы, застыл в охотничьей стойке бородатый режиссер, смотрит умоляющими глазами. Когда-то еще такое случится! Мастера кинопублицистики родной страны обегают за квартал и Театр на Таганке, и те тысячи сцен, где он чуть ли не ежедневно поет уже долгие годы, да и его самого. Однозная личность!..
— Всех актеров вашего театра, с которыми мы встречались, мы спрашивали... – мямлит собеседник. – Мы задавали один и тот же вопрос: если не артистом, кем бы вы хотели быть и почему?
— Я?.. Хотел бы быть?.. Я сейчас не могу ответить на этот вопрос. – Высоцкий искренне недоумевает, но... «крутится», летит через лентопротяжный механизм дорогая кинопленка, выклянченная у ленивых операторов студии в Лиховом переулке. И Владимир Семенович, «оглядываясь на вечность», начинает выстраивать ответ:
— Я хотел бы быть тем, кто я есть. Но в общем, в принципе я бы мог быть кем угодно... Я бы мог работать в любой профессии, если бы судьба повернулась по-другому. Я уважаю вообще все профессии, если человек в них профессионал, понимаете?.. Любую-любую, какую вы ни возьмите... Если человек – высокий профессионал в своей профессии, мне кажется, что в любой профессии может присутствовать творчество. Я мог бы заниматься любой профессией, если бы была возможность творить в ней.
Владимир Семенович повторяется, «разжевывает» мысль, это положение для него очень важное, и он хочет, чтобы его правильно поняли. Уважение к профессиям моряка, летчика, солдата, водителя, альпиниста, спортсмена, золотодобытчика оборачивалось в песнях Высоцкого безукоризненной точностью воспроизведения деталей, психологической верностью передачи характера, остротой сопереживания.
Но вот что касается всех актеров... Кем тогда уже считал себя по преимуществу сам Высоцкий? Актером?.. Его давно угнетала выбранная им стезя, требовавшая постоянного и непременного лицедейства. Певцом?.. Да он и не называл зачастую свои песни «песнями», а говорил, что это «какие-то выкрики под гитару», сознательно снижая эстетическую сторону собственной деятельности не из ложной скромности, а вполне отдавая себе отчет в том, что его стихи скорее похожи на заклинания. Наконец, поэтом?.. Безусловно, а еще, говоря о российской поэзии, не преминул сообщить слушателям, что поэты в России всегда были хорошими гражданами, как бы намекая на что-то. Скорее, он ощущал себя в полной мере творцом, но в списках известных профессий отдельно такая категория приложения сил человеческих не существовала.
Через полтора почти года после съемки в Зеленограде состоялась еще одна съемка – в Пятигорске, на местном телевидении, 14 сентября 1979 года. Журналист Валерий Перевозчиков спросил:
— Вы сказали в одном из ответов: «Я, в отличие от других поэтов...» Вот Я тоже вас считаю поэтом по преимуществу, а вы кем себя считаете?
— Вы знаете, сложно очень ответить на этот вопрос, — стал размышлять Владимир Семенович. Я себя считаю тем, кто я есть. Я думаю, сочетание тех жанров и элементов искусства, которыми я занимаюсь и пытаюсь сделать из них синтез, может, это даже какой-то новый вид искусства. Не было же магнитофонов в XIX веке, была только бумага, теперь появились магнитофоны и видеомагнитофоны. Вон у нас как случилось, что мы можем прийти в студию, записать и показать в другое время, подчистив, придав этому нужную форму. Так что появился новый вид искусства – телевидение, и, значит, может появиться новый вид искусства... Нет, я не говорю сейчас о технике. Вы спросили, кем я себя больше считаю – поэтом, композитором, актером? Вот я не могу вам впрямую ответить на этот вопрос. Может быть, все вместе это будет называться каким-то одним словом в будущем, и тогда я вам скажу: «Я себя считаю вот этим-то».
Этого слова пока нет.