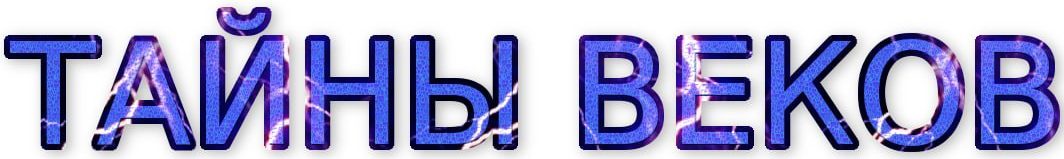Внешняя политика США и Англии по-прежнему была направлена на создание благоприятной обстановки для достижения военных и политических целей в войне с фашистским блоком, которые отвечали бы интересам монополистического капитала. Все большее внимание уделялось обеспечению выгодных для американских и английских господствующих классов условий послевоенного урегулирования.
Дальнейшее развитие получило сотрудничество США и Англии в рамках созданного ими союза. Весной и летом 1943 г. состоялись две англо-американские конференции на высшем уровне: в мае — в Вашингтоне и в августе — в Квебеке. В то же время обозначилось заметное неравенство партнеров: Соединенные Штаты с их большим и продолжавшим расти экономическим и военным потенциалом выдвигались на первое место в системе этой военно-экономической организации, усиливалась их роль в решении политических и стратегических вопросов.
Для правящих кругов Англии было характерно стремление расширить политическое и военное сотрудничество с Вашингтоном. 19 августа в Квебеке Черчилль и Рузвельт подписали секретный документ о сотрудничестве в создании атомной бомбы. США, опередившие в этом деле Англию, согласились возобновить, хотя и в ограниченном масштабе, прерванный ими обмен информацией с англичанами. США и Англия обязались не использовать атомное оружие друг против друга и лишь с обоюдного согласия применять его против третьих стран, а также признать равное с США представительство Англии во вновь учрежденном Комитете общего руководства
Условия соглашения, особенно положение о том, чтобы не передавать без взаимного согласия какую-либо информацию об атомной бомбе другим государствам, отражали намерение правящих кругов США и Англии укрепить господствующие позиции этих стран на мировой арене. Черчилль при посещении Соединенных Штатов Америки в мае 1943 г. развивал идею- «общего гражданства» англосаксонских государств и предлагал сохранить после окончания войны созданную ими структуру военного блока и обеспечить тесную согласованность действий в главных вопросах внешней политики. После очередных переговоров с Рузвельтом в США 12 сентября 1943 г. британский премьер-министр телеграфировал в Лондон, что планы международной организации безопасности «ни в коей мере не ставят под сомнение... естественные англо-американские особые отношения».
Однако в условиях радикального изменения международной и военной обстановки в пользу сил демократии и прогресса проведение в жизнь западными союзниками сепаратных военно-стратегических и политических планов чрезвычайно затруднялось. Участие США и Англии в одной с СССР коалиции налагало на правительства этих стран определенные обязательства. Выдающиеся победы Советской Армии создали предпосылки для укрепления антигитлеровской коалиции. Расширению базы военного сотрудничества трех держав содействовали также успехи англоамериканских войск на Средиземноморском театре военных действий и удары бомбардировочной авиации западных держав по Германии.
Постепенно начало сокращаться число различного рода антисоветских выступлений о «вмешательстве» Москвы в дела иностранных государств. Благожелательные отклики в правительственных и политических кругах западных держав встречала публикация в Советском Союзе подробных данных относительно предоставленной по ленд-лизу помощи. В апреле 1943 г. Советское правительство положительно высказалось о значении англо-американских поставок, а также о деятельности общественных фондов, например фонда медицинской помощи России, руководимого супругой премьер-министра К. Черчилль.
Военное сотрудничество с Советским Союзом и поставки ему военных материалов США и Англия осуществляли прежде всего в интересах собственной безопасности. Сохранение СССР как главного военного фактора в борьбе с вермахтом являлось гарантией того, что Британские острова и Западное полушарие не подвергнутся вторжению немецко-фашистских армий.
В проведении курса на сотрудничество с Советским Союзом положительная роль принадлежала президенту Рузвельту. Продолжение активного участия СССР в борьбе с Германией, подчеркивал Рузвельт, имело для США первостепенное значение. Вместе с тем Рузвельт избегал конфликта с определенными кругами американской правящей верхушки, выступавшими против реалистического курса в отношениях с Советским государством.
Придавая большое значение личным контактам, Рузвельт в мае 1943 г. направил в Москву своего представителя Дж. Дэвиса для переговоров об организации советско-американского совещания на высшем уровне. Неофициальная «встреча умов», как назвал такое совещание президент в секретном послании главе Советского правительства, летом 1943 г. по ряду причин не состоялась. В докладе же, представленном Дэвисом по возвращении в Вашингтон, обосновывалась целесообразность рассматривать военное сотрудничество с СССР с точки зрения долгосрочных целей внешней политики США.
В начале лета военное сотрудничество трех великих держав подверглось серьезному испытанию. Установка правящих кругов Англии и США на то, чтобы Советские Вооруженные Силы продолжали принимать на себя основную тяжесть ведения сухопутных действий в Европе на протяжении всего 1943 г., являлась крайне неблагоприятной для интересов всех антифашистских сил. Негативный подход Запада к вопросу о втором фронте подрывал веру Советского Союза в прочность коалиции.
Невыполнение Англией и США обязательств в отношении открытия второго фронта в 1943 г. обусловило обострение отношений СССР с западными державами. Глава Советского правительства оставил без ответа послания президента США и английского премьер-министра, извещавших его о решениях в Квебеке. Разногласия усугубились также из-за прекращения отправки — сначала до сентября, потом до ноября—мартовского (1943 г.) и последующих конвоев в СССР. В результате общий объем грузов, направленных в 1942—1943 гг. по Северному морскому пути, составил лишь около десятой части запланированного. Таким образом, Советский Союз недополучил большое количество намеченных грузов. В США возросла активность реакционных кругов. Военное ведомство ратовало за дальнейшее наращивание военного потенциала США, в частности за счет сокращения поставок Советскому Союзу.
Премьер-министр Великобритании предписал английскому послу в СССР Керру, советовавшему более серьезно отнестись к критическим высказываниям Сталина относительно второго фронта, занять «жесткую» позицию в отношении всех новых заявлений Москвы по этому вопросу. При удобном случае Керр, как вытекало из указаний Черчилля, мог бы напомнить Сталину о растущем день ото дня военном потенциале двух западных держав.
Однако сокрушительный разгром вермахта на Курской дуге и его неспособность остановить начавшееся стратегическое наступление Советской Армии заставляли правящие круги Запада провести определенный пересмотр своей политики. Трезвый учет военно-политической обстановки, изменившейся в результате побед Советского Союза, нашел свое отражение в документе «Позиция России», который, по словам Гопкинса, был составлен «весьма высокопоставленным военным стратегом США». В нем проводилась мысль, что от активного военного сотрудничества с СССР зависит как успех всех союзных операций в Западной Европе, так и победоносное окончание войны с Японией. «Поскольку Россия является решающим фактором в войне, — отмечалось в этом документе, — ей надо оказывать всяческую помощь и надо прилагать все усилия к тому, чтобы добиться ее дружбы. Поскольку она, безусловно, будет занимать господствующее положение в Европе после поражения держав оси, то еще более важно поддерживать и развивать самые дружественные отношения с Россией» Этот вывод, как писал Гопкинсу один из его ближайших сотрудников Дж. Бёрнс в сопроводительной записке к указанному документу, по-видимому, совпадает с мнением президента. Он напомнил о заявлении Рузвельта по радио от 28 июля 1943 г. по поводу желательности дружественных отношений между США и СССР в послевоенном мире.
Таким образом, сотрудничество с СССР представлялось дальновидным деятелям США наиболее правильной политикой. Это свидетельствовало о крушении планов реакционных группировок Запада, направленных на взаимное истощение гитлеровской Германии и Советского Союза.
В Вашингтоне к этому времени стали осознавать, что СССР сможет и без помощи союзников завершить разгром Германии, освободить всю Европу, выйдя из войны могучей мировой державой. По соображениям «баланса сил» было признано нецелесообразным обострять отношения с советским партнером бесконечным оттягиванием открытия второго фронта. Предпочтение отдавалось такой линии поведения, которая нейтрализовала бы дальнейший рост международного и военного влияния СССР.
Стремление «не упустить шанс» играло все более важную роль в расчетах военного ведомства США. Генерал Д. Эйзенхауэр еще в мае 1943 г. высказал предположение А Бруку: если англо-американцы бросят все свои войска на Средиземноморский театр, то может случиться так, что и Центральную и Западную Европу займут русские. Военный министр Г. Стимсон со своей стороны предупреждал президента: с точки зрения послевоенных интересов США крайне опасно, если Германия будет побеждена в основном силами Советского Союза.
Администрация Рузвельта брала курс на решительные военные действия против Германии. Вторжение во Францию и Германию Вашингтон рассматривал как операцию, несравненно более важную, чем установление контроля над Балканами. Президент отверг «балканскую стратегию» англичан, заявив, что не верит слухам о намерении Советского Союза установить свое господство в балканских странах. Рузвельт опасался, как бы в изменившихся условиях дальнейшая отсрочка операции «Оверлорд» не обернулась для США потерей важных позиций в Европе. Поэтому на совещании в Белом доме 10 августа 1943 г. он поддержал мнение командования армии США о первоочередности вторжения в Северную Францию в 1944 г., а на конференции в Квебеке проявил большой интерес к плану «Рэнкин», выразив пожелание, чтобы «американские войска... были готовы выйти к Берлину одновременно с советскими войсками».
Признав в августе 1943 г. по настоянию американской стороны операцию «Оверлорд» основной целью усилий Англии и США в 1944 г., правительство Черчилля, однако, и после Квебекской конференции по-прежнему стояло за то, чтобы более активно вести средиземноморские операции в ущерб подготовке вторжения во Францию. Военный кабинет в Лондоне, обсуждая проблему второго фронта в связи с предстоявшей Московской конференцией министров иностранных дел трех держав, единогласно высказался в том смысле, что Англия в существующих условиях не может быть «привязана» к квебекским решениям. 27 октября в дневнике постоянного заместителя министра иностранных дел А, Кадогана по этому поводу записано: «В первой половине ноября должно состояться новое штабное совещание. Уинстон будет сражаться за то, чтобы «подкормить битву» в Италии, и в случае необходимости пригрозит подать в отставку. Чрезвычайно полезная дискуссия».
Вместе с тем Черчиллю и его советникам становилось все труднее проводить свои стратегические планы. Падение влияния Лондона в системе англо-американских органов стратегического руководства и планирования, углубляющийся разрыв между военно-экономическими потенциалами обеих западных держав — все это объясняло отступление Англии от своих позиций в вопросах планирования войны и взаимоотношений с СССР.
Важнейшая причина принятия в Квебеке США и Англией новых решений о дальнейшем ведении войны против гитлеровской Германии заключалась в росте военной мощи и международного авторитета СССР. Это обстоятельство повлияло и на выполнение программы поставок Советскому Союзу по ленд-лизу. Попытку определенных американских военных кругов обусловить помощь рядом требований в адрес СССР Белый дом отверг. Подписанный в Лондоне 19 октября третий протокол о поставках не связывал Советское правительство никакими условиями.
Объем американских поставок по ленд-лизу Советскому Союзу, по данным госдепартамента США, возрос с 2,45 млн. тонн в 1942 г. до 4,79 млн. тонн в 1943 г. В основном поставки осуществлялись через советский Дальний Восток и Иран. По этим путям в 1943 г. было доставлено соответственно 49,8 и 33,5 процента американских грузов. Английские поставки по ленд-лизу Советскому Союзу в 1943 г. по сравнению с 1942 г. сократились более чем на две трети В соответствии с третьим протоколом обязательства по поставкам в СССР взяла на себя Канада. Поставки по ленд-лизу Советскому Союзу способствовали успешному ведению войны против агрессоров. В то же время было бы неправильно преувеличивать роль этих поставок. Решающим фактором победы над фашистской Германией явились самоотверженная борьба советского народа, мощный военно-экономический потенциал социалистического государства.
В условиях коренного перелома в войне правящие круги США и Англии стремились повсеместно ограничить рост левых сил, предотвратить перерастание движения Сопротивления в демократическую революцию. Западные союзники укрепляли связи с теми социальными группами движения Сопротивления, которые рассчитывали восстановить старые буржуазные режимы. Испытывая страх перед борющимися народными массами, они сокращали помощь патриотическим силам, намеревавшимся после изгнания оккупантов обновить государственную структуру.
Правительства США и Англии стремились оказать влияние на отношения СССР с восточноевропейскими странами, которые, скорее всего, могли быть освобождены советскими войсками. Американский посол в Англии Д. Вайнант телеграфировал 26 июля президенту, что с развитием советского наступления Лондон и Вашингтон захотят «повлиять на русские условия капитуляции и оккупации территорий союзных и вражеских государств».
В Восточной и Юго-Восточной Европе западные союзники отдавали предпочтение монархическим и консервативным элементам. Ориентация на враждебные социализму и демократии силы лежала в основе политики Запада. В Югославии, например, английское правительство, несмотря на установленные в мае 1943 г. связи с партизанами, возглавляемыми И. Б. Тито, продолжало оказывать поддержку королевскому эмигрантскому правительству и четникам Михайловича. Эта поддержка, разъяснял весной 1943 г. один из английских чиновников, обусловлена необходимостью «иметь в распоряжении вооруженную силу для предотвращения анархии и коммунистического хаоса после отступления оси». 16 июня министерство иностранных дел Англии подтвердило занятую позицию, хотя ее военную целесообразность оспаривал комитет начальников штабов.
В Италии после свержения Муссолини западные союзники стремились не допустить глубоких демократических преобразований. Еще до вступления англо-американских войск в Южную Италию они установили контакт с консервативно-монархическими кругами, заинтересованными в сохранении господства итальянского монополистического капитала. После объявления правительством Бадольо войны гитлеровской Германии правительства СССР, Великобритании и США подписали 13 октября в Москве декларацию о признании Италии «совместно воюющей стороной». Но политический курс, проводившийся США и Англией совместно с реакционными силами Италии на юге страны, расходился с принятыми на Московской конференции решениями. Планы демократизации Италии и полного уничтожения фашизма, предусмотренные этими решениями, по вине западных держав медленно претворялись в жизнь. Активных мер к смене старого государственного аппарата, как правило, не предпринималось. Офицер контрразведки Р. Бэкингем доносил 31 октября начальнику англо-американской военной миссии при правительстве Бадольо генералу Мезон-Макфарлану: «В итальянском народе ощущается чувство беспокойства, разочарования и удивления тем фактом, что значительная часть фашистов... все еще находится на свободе. Многие из них продолжают занимать прежние посты... Итальянцам, — говорилось далее в донесении, — непонятна пассивность союзников».
Опасаясь развертывания движения Сопротивления в оккупированной вермахтом Северной Италии, Вашингтон и Лондон противились созданию итальянской освободительной армии. Они стремились ограничить действия партизан сбором разведывательных данных, диверсиями и саботажем. Помощь, обещанная партизанам по соглашению с Комитетом национального освобождения Северной Италии от 3 ноября 1943 г., вплоть до лета 1944 г. предоставлялась в незначительном объеме. Англоамериканская политика союза с реакционными социальными группами и противопоставления их демократическим силам препятствовала более эффективному использованию ресурсов Италии в войне против гитлеровской Германии.
По отношению к Франции США и Англия проводили политику, объективно задерживавшую сплочение антифашистских сил. Западные союзники, особенно США, с самого начала отрицательно реагировали на просьбу о признании Французского комитета национального освобождения. Американские правящие круги намеревались подчинить своему влиянию Францию и ее колонии. В Вашингтоне исходили из предположения, что в результате войны Франция надолго перейдет в разряд второстепенных государств и это облегчит реализацию американских планов в Западной Европе, а также во Французской империи. Не желая подлинного возрождения Франции, США противились созданию централизованных французских органов управления. По мнению Рузвельта, со вступлением союзных армий на территорию Франции она должна будет рассматриваться как оккупированная страна, подчиняющаяся американским и английским военным властям.
Как отмечалось министерством иностранных дел Англии в меморандуме от 13 июля 1943 г., США хотели бы расколоть ФКНО, удалить всех сторонников генерала де Голля и создать марионеточный Французский комитет, послушный союзникам. «Так это или не так, — говорилось в меморандуме, — но в Европе правительство Соединенных Штатов подозревается в симпатиях к французским несопротивленцам и коллаборационистам. У нас есть все основания полагать, что оно все еще поддерживает контакт с маршалом Петэном».
Позиция Англии по вопросу признания ФКНО определялась отчасти традиционными британскими интересами «равновесия сил» в Европе. В упомянутом меморандуме английское министерство иностранных дел утверждало, что договор Англии с СССР, обеспечивающий «сдерживание» Германии на восточном фланге, «должен быть уравновешен соглашением с могущественной Францией на Западе». Оно рекомендовало формулу ограниченного признания ФКНО. И этот, и последующие английские проекты «признания» содержали серьезные оговорки, ограничивавшие полномочия комитета. Но даже эти компромиссные варианты отвергались Вашингтоном.
Однако давление со стороны сил французского Сопротивления и решительное выступление советской дипломатии заставили Соединенные Штаты в конце концов признать ФКНО. Ни английский, ни американский проекты признания не были приемлемыми для Советского правительства, поскольку в них ущемлялись национальные интересы французского народа. Поэтому было согласовано, что СССР, США и Англия выступят со своими заявлениями раздельно, но одновременно. Это произошло 26 августа 1943 г. В американском заявлении имелись формулировки, которые говорили сами за себя: «Взаимоотношения с Французским комитетом национального освобождения должны и в дальнейшем быть подчинены военным потребностям союзного командования... Это заявление не представляет собой признания правительством Соединенных Штатов правительства Франции или Французской империи. Оно представляет собой признание Французского комитета национального освобождения как органа, действующего в пределах определенных ограничений во время войны». Аналогичный английский документ также содержал оговорки, направленные на ограничение полномочий ФКНО в деле защиты французских интересов.
Наряду с признанием ФКНО западные союзники, опять-таки вследствие поддержки французских интересов со стороны Советского Союза, были вынуждены признать официальные права Франции в Европейской консультативной комиссии и в других союзных органах.
Значительное место во внешнеполитической деятельности западных держав отводилось решению проблем ведения войны на Тихом океане, в Восточной и Юго-Восточной Азии. Они стремились в максимальной степени использовать людские и материальные ресурсы Китая, Индии и других стран, находившихся в орбите их влияния. Американские историки Ч. Романус и Р. Сандерленд в одном из томов труда «Армия США во второй мировой войне» писали: «Географическое положение, громадные людские ресурсы Китая все еще могли играть большую, а возможно, и решающую роль в предстоявшем наступлении на Японию. Каким образом добиться привлечения этих китайских ресурсов, в какой степени зависело от них достижение победы англичан и американцев на Тихом океане — это были главные вопросы, решить которые следовало в октябре 1943 г.»
Успех в этом плане мог быть достигнут лишь при условии, если бы западные державы строго придерживались провозглашенных ими освободительных целей войны. Однако в действительности по отношению к колониальным и зависимым народам они проводили политику, обусловленную интересами монополистического капитала. При этом постоянно давали о себе знать существовавшие между США и Англией империалистические противоречия,
Правящие круги Англии ставили целью возвращение Малайи, Сингапура и других бывших владений, дальнейшее укрепление своих позиций в Азии. Понимая, что одной Англии не под силу установить свое господство в Китае, они не хотели в то же время поддерживать далеко идущие намерения своего американского союзника. Со своей стороны правительство и высшее военное командование США препятствовали восстановлению английского влияния в Юго-Восточной Азии, стремились утвердить свое собственное господствующее положение в Китае и других районах Азиатского континента.
Некоторые видные деятели США, вопреки принятым ранее решениям считать нацистскую Германию главным противником, время от времени весьма настойчиво выступали за концентрацию основных усилий на Тихоокеанском театре военных действий. Однако Рузвельт, реально оценивая перспективы развития второй мировой войны, не принимал во внимание доводы сторонников «тихоокеанской стратегии». Он признавал подобные концепции опасными для всего американского курса во второй мировой войне. Группировавшиеся вокруг президента политики отдавали себе отчет в том, что Германия значительно сильнее Японии и что Германию необходимо разгромить в первую очередь. Рузвельт считал целесообразным поддерживать в Китае режим Чан Кай-ши как противовес Японии. Намереваясь усилить позиции США в Китае с помощью Чан Кай-ши, он питал надежды на то, что эта страна будет находиться в зависимости от Соединенных Штатов Америки. Отношения США с Китаем, таким образом, определялись не только союзом в войне против Японии, но и стремлением закрепить американскую гегемонию в Восточной Азии.
В свою очередь правящие круги Японии рассчитывали, что отношения между ними и гоминьдановским правительством рано или поздно станут дружественными «во имя совместной борьбы против коммунистов Советского Союза». Антисоветский курс политики Чунцина позволял предполагать именно такое развитие событий. Гоминьдановское правительство, желая изолировать районы в Северо-Западном Китае, контролируемые 8-й армией, и лишить их связей с СССР и МНР, пошло на почти полное прекращение торговли с Советским Союзом через провинцию Синьцзян, а в апреле 1943 г. перебросило крупную группировку своих войск в эту провинцию. В мае Советское правительство в ответ на враждебные действия гоминьдановских властей в Синьцзяне было вынуждено закрыть там свои торговые представительства и отозвать специалистов.
Правительство Чунцина пыталось получать по возможности больше помощи от Соединенных Штатов Америки. На конференции в Квебеке его представители критиковали американского союзника за игнорирование «нужд и потребностей» китайского фронта. Они настаивали на увеличении поставок по ленд-лизу и одновременно требовали предоставления Китаю «равного с прочими места в военно-стратегических и межсоюзнических органах и совещаниях». Это требование Китая осталось неудовлетворенным. Американскую военную помощь гоминьдановцы в основном использовали не для отпора Японии, а для укрепления своих войск, блокировавших 8-ю и Новую 4-ю армии.
В противовес закулисной игре, которую вели определенные группы правящих кругов США, Англии и Китая, советская внешняя политика последовательно отстаивала принципы международного сотрудничества в интересах скорейшего разгрома фашистских агрессоров и установления справедливого и прочного мира.
Правящие круги США, рассчитывая максимально использовать в войне против Японии ресурсы государств Восточной и Юго-Восточной Азии и преследуя далеко идущие цели в этом районе, по-прежнему выдвигали лозунги антиколониализма. Но оказывать давление на английского партнера в вопросе о независимости Индии и других стран этого района они не хотели. Черчилль же и другие английские лидеры решительно и открыто выступали за сохранение колониального господства Англии. В докладе личного представителя американского президента в Индии У. Филлипса, подготовленном к конференции глав правительств США и Англии в мае 1943 г., указывалось, что Индия должна сыграть важную роль в войне против Японии, но не может этого сделать вследствие политики английского кабинета. Филлипс предлагал побудить Черчилля пойти на уступки Индии в деле предоставления ей независимости и продемонстрировать тем самым якобы благожелательную позицию США по отношению к колониальным народам. Однако эти рекомендации не были приняты во внимание правительством США.
На конференции в Квебеке было решено «при планировании исходить из того, что Япония должна быть разбита в течение 12 месяцев после завершения войны с Германией». Однако конкретно не определялось, когда и с привлечением каких средств начнется генеральное наступление на Японию. Было достигнуто согласие развернуть операции по захвату ряда островов на Тихом океане, активизировать действия англо-индийских войск в Бирме, «продолжать создавать новые и улучшать существующие воздушные пути в Китай, всемерно усиливая его снабжение по воздуху... Энергичное и эффективное проведение широких действий, — говорилось далее в решениях конференции, — против Японии в Юго-Восточной Азии и быстрое увеличение пропускной способности воздушного моста через Бирму в Китай требуют реорганизации командования на Индийском театре военных действий». Вскоре было создано единое англоамериканское командование в Юго-Восточной Азии во главе с английским адмиралом лордом Л. Маунтбэттеном.
Таким образом, противоречия между США и Англией в вопросах дальневосточной политики и стратегии не оказывали глубокого влияния на ход войны против Японии.